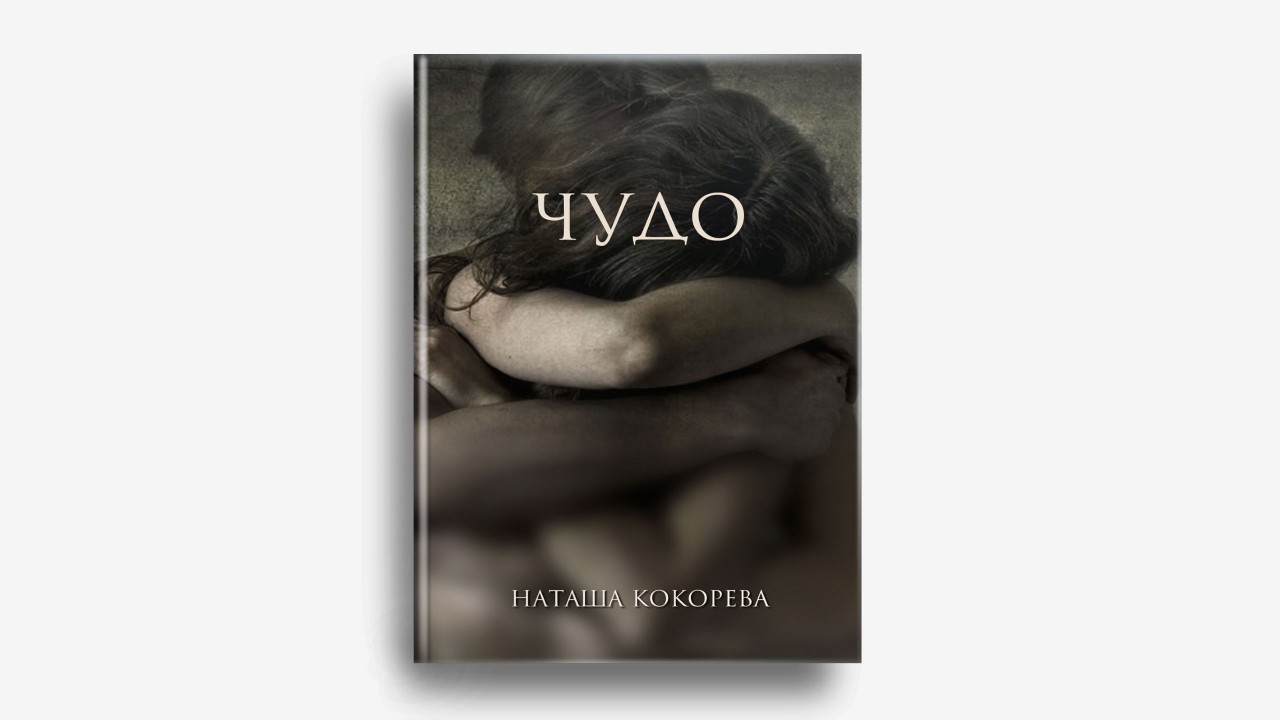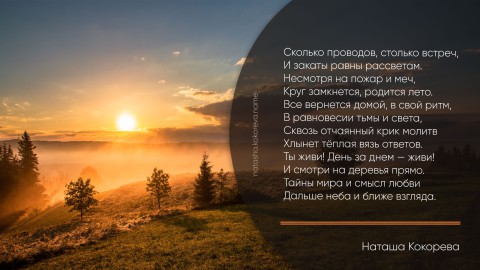Кулак врезался в грудь. Гулко и больно. Иржи отшатнулся, поймал равновесие и присел, уходя от удара. На волосок от головы пронесся Бахта и с воем влетел в дерево. Развернулся, сверкнув выпученными глазами. Иржи прыгнул ему на спину, перехватил ручищу и вывернул до костного хруста вверх, к лопатке.— Хватит! — Корт сплюнул кровью и поднялся с земли, цепляясь за куст боярышника. — Иржи! Что ты взъелся на нас?
Бахта дернулся и взвыл — Иржи сильнее заломил ему руку и прорычал на ухо:
— Извинись перед Айкой!
— Да ну тебя, правдолюб! Айка — гулящая. Нечего из-за нее руки марать! Ей, почитай, честь оказали — предложили венками в Купальскую ночь обменяться, — а она нос воротит! Ишь какая! Вот и получила, раз подобру не хочет. Я в этом больше не участвую! — Корт еще раз плюнул — теперь прямо на башмаки Иржи — и, прихрамывая, побрел прочь.
Айка всхлипнула и поджала ноги, прикрываясь разодранной юбкой.
— Извинись! — упрямился Иржи.
— Мелкий, а хваткий придурок! — пропыхтел Бахта, вырываясь. — Видать, ты сам в нее по уши втрескался, коли так бьешься!
— А не твое дело! — из последних сил навалился Иржи.
— Ладно, Айка. Не хочешь с Кортом — развлекайся с этим придурком. Мне плевать.
Не извинения, конечно, но деваться некуда — силен он, зараза! С детства его было не одолеть. Иржи отступил:
— Вали отсюда!
Бахта покачал головой, баюкая больную руку, и щербато улыбнулся:
— Зря ты так: из-за девки да на друзей.
— Ты тоже много чего зря, — вскинул подбородок Иржи.
Сверкнув глазами навыкате, Бахта в развалку скрылся в зарослях.
— Ты как? — Иржи присел рядом с Айкой.
Она в последний раз всхлипнула, вытерла слезы тыльными сторонами ладоней и гордо отбросила за спину ворох мелких рыжевато-русых кудряшек.
— Спасибо тебе, — прошептала тихо, но с нажимом, коротко глянула — блеснули из-под длинных ресниц глаза цвета гречишного меда — и уставилась в землю.
— Не за что! — усмехнулся Иржи, поднялся и подал ей руку.Айка сжала ладонь холодными пальцами и улыбнулась. Он потянул вверх, но она неловко припала на правую ногу и рухнула прямиком в его объятия.
— С коленом что? — перепугался Иржи.
Она не ответила — лишь крепче прижалась, уткнулась в плечо. В растерянности он невесомо провел рукой по пушистым кудрям:
— Ты чего, Айка?
Судорожно вдохнув, она отстранилась. В распахнутых наивных глазах смешались слезы, и счастье, и страх, и решимость. Мягкие губы чуть приоткрылись и вновь сомкнулись. Напряженные ладони скользнули вверх по его плечам.
Иржи окаменел.
Холод стиснул горло, обжег грудь и свернулся скользким сгустком в животе.
Только не это, Айка! Нет! Ты хорошая, милая, добрая, немножко глупая, но не надо.
— Только не перебивай меня! — выпалила она, будто прочитав его мысли. — Я знаю, что ты не хочешь быть со мной, но… сколько раз уже таяли снега и желтели листья, а ты… все один. Молчи! — Она до боли стиснула его плечи. — Про меня многое болтают, но правды в том ни на грош. Болтают, потому что я… тоже одна. — Она облизала губы и выдохнула: — А одна я потому, что жду тебя, Иржи. Тебя.
— Айка! — не выдержал он.
Но она быстро прижала указательный палец к его губам:
— Давай обменяемся сегодня венками. Или ну их, венки. Пусть просто. Пусть только на одну ночь! А дальше… будь что будет. Я не могу больше, Иржи. Я люблю тебя!
Ниточки бровей на переносице, жженый сахар отчаянных глаз, напряженные крылья чуть вздернутого носа, маленькая родинка на правой щеке — на ее лице застыла такая мучительная надежда, что Иржи не мог отвернуться.
Но и смотреть тоже не мог.
Память рисовала совершенно другое лицо: нос чуть с горбинкой, крыло смоляных волос, отрезанных наперекор всему и всем, черные дуги бровей, старое золото раскосых глаз, которые всегда смотрели на горизонт в ожидании чуда.
Прохладные тонкие пальцы Айки скользнули к его шее — по хребту хлынули мурашки, — взъерошили на затылке волосы. Правой рукой она осторожно погладила его щеку, приподнялась на цыпочки и поцеловала.
Губы пахли цветами шиповника и диким медом, мятой и малиной. Дыхание обжигало кожу, стыло на ветру. Локоны щекотали шею, стройное тело прижималось все плотнее.
Иржи зажмурился, отгоняя наваждение: видение золотистых глаз.
Те поцелуи горчили полынью и летней рябиной.
Изо всех сил сжав плечи Айки, он отстранился. Она молчала. Только смотрела прямо в душу, открыто, без былой мольбы и слез.
— Нет, — покачал головой Иржи.
Она даже бровью не повела — продолжала смотреть.
— Я люблю Горинку, — добавил Иржи.
— Горинку?! Дочь мельника? — Она округлила полные ужаса глаза. — Иржи, ты в своем уме?
Нестерпимо заломило виски. Иржи стиснул зубы, резко развернулся и побежал прочь.
— Иржи! — кричала она вслед со странной смесью боли, разочарования и жалости.
Но он не слушал.
Он спешил к мельнице, что на высоком холме, у обрыва над рекой.
Небо, усыпанное курчавыми облаками, проглядывало сквозь щербатые крылья мельницы. За крышей, чешуйчатой от деревянных черепиц, притаилось солнце, и оттого окоем ослепительного света окутывал потемнелые доски. Сизый узор лишайника бледнел на округлых боках бревен, сквозь прогнивший порог пробивалась полынь.
Иржи сбросил башмаки — ноги утонули в густой траве — и подошел к краю обрыва. Внизу неторопливо текла река, ерошась колючей рябью. На дальнем берегу дымка лохматыми косами пеленала деревья. Селяне готовили к празднику широкий песчаный мыс: рядили чучело Ярилы, обматывали ветошью колесо, стаскивали бревна, кололи дрова и плели венки. Ох уж эти венки!..
Крепко зажмурившись, Иржи опустился на землю. Заходящее солнце жгло сомкнутые веки…
В сияющих лучах танцевала Горинка. Высокие травы пачкали росой белый подол, широкий пояс под грудью подхватывал сарафан. Вскинет руки над головой — против света темнеют тонкие кисти, острые локти. Шагнет, перекатится, закружится — юбка взлетает колокольчиком. Улыбнется — и сердце останавливается, глаза слепнут.
— Что такой серьезный, Иржи? Хмурый такой! — зазвенел голос Горинки.
— Любуюсь своей ненаглядной, — отозвался он. — Нарядилась к Купале — загляденье!
— Ах ты, сказочник! — расхохоталась она и села рядом. — Мед в уши любишь лить, да только сам знаешь — мне по нраву горькая правда-полынь. И чудеса. Настоящие.
Она обхватила колени руками и посмотрела на горизонт так, будто и вправду видела, что там, за заветной чертой.
— Горинка моя, ты и есть — Чудо! — Иржи обнял ее за талию, притянул к себе. — Обменяемся в эту ночь венками, прыгнем за руку через самый высокий костер и встретим вместе рассвет? Встретим вместе все-все рассветы? Будь моей, Горинка! Будь моей навсегда!
Трава позеленила праздничный сарафан, но Горинка и не заметила — прильнула к Иржи, обожгла горячим дыханием его шею, коснулась сухими губами уха и прошептала:
— Глупый мой Иржи! Лучше выкради меня и уведи за горизонт! Подари мне чудеса целого мира! — Ее руки скользнули по взмокшей спине Иржи, щека прижалась к виску. — Я буду танцевать, а ты — рассказывать сказки. Мы обойдем весь свет!
— Все что хочешь, любимая! Все что хочешь! — Шелк ее волос пролился сквозь пальцы Иржи, с закрытыми глазами он отыскал ее губы и поцеловал — жидкий огонь кипятил кровь, ветер горчил полевыми травами.
— Все что хочу? — лукаво улыбнулась Горинка. — Тогда ночью мы отыщем цветок папоротника, а на рассвете — сбежим!
Иржи чуть не задохнулся — слово вмиг весь воздух исчез, землю затопили болотные воды.
— Не нужен нам цветок папоротника, милая! Зачем? Не принесет он счастья — душу только похитит. Не пойду я с тобой за цветком. И тебя не пущу!
Горинка мигом вскочила и тряхнула короткими волосами:
— Ты меня не пустишь? Попробуй! Нет на свете силы, чтобы меня удержать! — Полыхнуло золото глаз, по щекам хлестнули темные пряди. Развернулась на каблуках и побежала к мельнице.
— Стой, Горинка! — бросился за ней Иржи. — Я прошу тебя, не ходи.
Она замерла на свежесрубленном пороге и обернулась:
— Я пойду. Ты можешь пойти со мной.
Глупая, глупая, глупая, упрямая Горинка! Как же ее уберечь?
— Я пойду! — кивнул Иржи. — Жизнь твоя мне важнее гордости и даже любви.
— Не проспи! — задрала нос и скрылась внутри.
Хлопнула дверь.
Лопасти мельницы со свистом резали воздух, скрежетали жернова. Ныло сердце. Иржи задыхался дурным предчувствием и не знал, как переупрямить Горинку.
Хлопнула дверь. Скрипнули ржавые петли. Иржи открыл глаза — темнота. Огрызок месяца пробивается сквозь старые лопасти. Молчат жернова, много лет молчат. От реки тянутся сполохи костров.
Ухнул прогнивший порог. Всхлипнула девушка. Частые шаги забарабанили по тропинке.
— Не проспи! — эхом прозвенел незабытый голос.
Сон и явь переплелись крепче некуда. Перепутались намертво. Виски нестерпимо ломило, и не хотелось вспоминать. Когда забросили мельницу? Куда подался мельник? «Вчера» и «сегодня» смешались и встретились этой ночью. Ночью на Ивана Купала.
Девичьи шаги стихли в темном лесу, там, где расцветал проклятый папоротник.
Иржи все никак не мог понять, что приснилось, что привиделось, а что давным-давно сбылось. Безвозвратно сбылось. Но здесь и сейчас он еще может успеть. Спасти кого-то от огненного цветка.
Отбросив раздумья, Иржи вскочил и бросился по тропинке, по остывшему следу.
Травы резали руки, хлестали по лицу ветки, за штаны цеплялись репьи. Ступни бились о корни, сердце стучало в ушах. Черные листья трепыхались над головой. Редкие крупные звезды пробивались сквозь густой полог и вязли в кромешной темноте. Оглушительно стрекотали жабы, стонали ночные птицы, за спиной хихикала нечисть. Тропинка плутала.
— Эй! — крикнул Иржи.
— Эй-е-ей… — отозвалось эхо.
Но кто-то же вышел из мельницы этой ночью? Кто-то бросился в лес?
Иржи побежал быстрее. Крапива жалила сквозь одежду, хлопали крылья невидимых птиц. Валежник скалился лохмотьями, тускло мерцали гнилушки глазами подземных тварей. Под ногами вздыхали и ворочались кочки. Кряхтели лесовики, на ветвях шушукались русалки, тянули вниз бледные руки, тонкие пальцы.
Ноги запутались в лозах дикого винограда — с размаху шлепнулся Иржи на землю, ушиб нос, ободрал руки. Хотел уже, было, повернуть, как мелькнул впереди белый подол нарядного сарафана.
Сердце так и прострелило — Горинка!
Не разбирая дороги, позабыв, где рассвет, где небо, понесся Иржи вслед за хрупким девичьим силуэтом, через бурелом, напрямик в колдовскую чащу. То ближе белая фигурка, то дальше, то появится, то исчезнет. Остановится, дрожа лепестком на ветру, и бросится наутек. А то обернется — блеснут жидким золотом глаза, обледенеет сердце Иржи.
— Горинка! — крикнет Иржи, но ее уже нет.
— Что такой серьезный, Иржи? — хохочет чаща.
— Подари мне чудеса целого мира! — булькает гнилое болото.
Во рту привкус тлена и пепла, в груди — раскаленным углем сердце, а впереди — сполохи.
Огонь? Костер?
Но ответ горьким комом встает в горле. Горьким комом правды-полыни.
Не костер то, не болотный огонь — то разгорается чертовым пламенем бутон папоротника. И кто увидит его — ослепнет, а глаз отвести не сможет. И кто сорвет его — не вынесет из чащи. Поднимутся кочки, провалятся ухабы, потянутся черные руки — ухватят белое платье, утянут к себе под землю, чтобы не отпускать огнецвет, чтобы не дарить смертным удачу, не исполнять желаний. Сильные, смелые выносили зачарованный цветок — крали у нечистых счастье. Да не всем оно дается. Не всем.
— Горинка! — завопил Иржи.
Увяз в темноте крик — даже эхо не ответило.
Иржи замер. Понял, что ноги ходят по кругу, а мысли — в плену страсти, в плену страха, в плену несбывшейся любви. Если хочет он вырваться — нужно посметь. Открыть глаза и посмотреть правде в лицо. Признаться самому себе.
Не ту он зовет, не за той бежит.
— Уходи, Горинка! — глухо выдавил Иржи, закашлялся и воскликнул в полный голос: — Уходи!
В просвете между деревьями вновь мелькнул белый силуэт.
— Ты — не она. Не смотри на цветок! — крикнул Иржи. — Обернись ко мне.
Она послушалась. Замерла.
Желтые глаза тлели – отгоняя наваждение, Иржи зажмурился и шагнул вперед. Коснулся теплой руки, обнял, прижал к сердцу. И за мгновенье до поцелуя он вдохнул запах шиповника и дикого меда, мяты и малины.
— Айка! — Он открыл глаза.
Она дрожала бледным лепестком. По щекам струились слезы.
— Я думала… вурдалак какой… за мной пробирается, — заикаясь, пролепетала Айка. — Ты все звал…
— Не произноси ее имени, — Иржи приложил палец к влажным губам Айки.
— Почему?
Иржи сглотнул горький ком в горле. Медленно вдохнул прелый запах чащи. Медленно выдохнул. И наконец решился признаться самому себе, превозмогая боль в висках:
— Горинки нет. — Позади Айки бутон папоротника полыхнул золотом глаз, но Иржи упрямо повторил: — Горинка умерла. Пять лет назад. В эту самую ночь. На этой поляне. Сгорела в пламени великого чуда — цветка папоротника. Горинки больше нет.
Наваждение рассыпалось веером искр.
— А я проспал. Я не пошел за ней в лес — не нашел дороги.
— Зато теперь нашел, — прошептала Айка.
— Нашел. И спасу тебя от этого проклятия! Смотри мне в глаза. — Он сжал ее лицо ладонями. — Зачем ты сюда пришла?
— Чтобы найти счастье… для нас. — Она опустила глаза и покосилась на цветок.
— Смотри мне в глаза! — Иржи сдавил ей виски, не позволяя отвернуться.
Нижняя губа Айки дрожала, в темных глазах плескалась боль.
— Для счастья нам не нужно краденое чудо, слышишь?
— Но ты говорил…
— Я боялся. Я боялся вспомнить и признаться. Я боялся посметь влюбиться. Но теперь у нас есть собственное чудо. Чудо и жизнь. Не смотри на бутон. Я люблю тебя!
Айка зажмурилась и прижалась к Иржи.
За ее спиной огненным заревом распустился цветок папоротника. Углями полыхнули прозрачные лепестки, будто выточенные из самоцветного камня. Искрами взметнулись тычинки на длинных нитях. Заплясало пламя в такт биению сердца. Вскрылась рваными комьями земля, застонали столетние корни, зашелестели нижние воды — тьма за кругом чудесного цветка ощерилась, заскрежетала.
Вот сейчас можно шагнуть из теплых объятий. Выхватить заветный цветок. Вынести в чистое поле. И пожелать одну-единственную — и вернется она, живая и невредимая. И тогда…
— Иржи… — прошептала Айка, уткнувшись куда-то в шею.
Нет. То не любовь. То наваждение. Старая боль. Сгоревшая быль.
А любовь — это чудо и жизнь. Чудо и жизнь.
Усилием воли он отвел глаза от цветка, взглянул на Айку и улыбнулся.
— Мне страшно, — пролепетала она. — Они утащат нас под землю.
Иржи покачал головой и усмехнулся:
— Нет, мы не дадимся. У нас есть свое волшебство.
— Какое? — распахнула она глаза, блестящие заревом.
Он распустил шнуровку на горловине своей рубахи, развязал широкий пояс Айки.
Она прикусила губу, но глаз не отвела. Только искрились рыжинки мелких кудряшек, только темнела родинка на правой щеке.
Медленно Иржи снял белую лямку с округлого плеча. Айка вздрогнула и замерла. Иржи провел рукой по другому плечу — сарафан с шелестом упал в ноги. Молочная кожа янтарем светилась в колдовских отблесках. Темнели тонкие ключицы, высокая грудь поднималась в такт загнанному сердцу, манили плавные изгибы. Смущенно поджатые пальцы ног зарывались в землю, но руки были опущены — не прикрывается, принимает.
А вокруг бушевала преисподняя: хороводили лохматые тени, скрадывая звезды, громыхали запредельные голоса, топотали копыта, стенала нежить, ярче и ярче разгорался цветок.
Иржи стянул рубаху через голову, перехватил взгляд Айки, прижал грубую ладонь к ее нежной ладошке, скользнул по внутренней стороне руки, царапнув мозолями гладкую кожу, пальцем прочертил ключицу, обнял за шею.
Айка подалась вперед, поднялась на носочки, прижалась губами к виску, обожгла прерывистым дыханием щеку, прикусила верхнюю губу, глубоко вдохнув, уткнулась в шею.
Подхватив под спину, он поднял ее на руки — Айка крепко уцепилась, не поднимая головы, — и понес мимо цветка, на нетронутый пригорок, покрытый курчавым мхом. Бережно опустил, утонув коленями в крохотных прохладных листочках. Ноги Айки обвили его бедра, тело выгнулось, запрокинулась голова, разметались пушистые волосы, глаза зажмурились. Она улыбнулась. Счастливо и безмятежно. Иржи прижал ее к себе, обняв за талию, рука скользнула ниже, а губы коснулись ее губ, наливаясь привкусом дикого меда.
Преисподняя бушевала неистово, бессильная против жизни и любви.
Догорал цветок папоротника, осыпаясь бесполезным пеплом.
А в груди у влюбленных билось два пламенных чуда.
В такт.